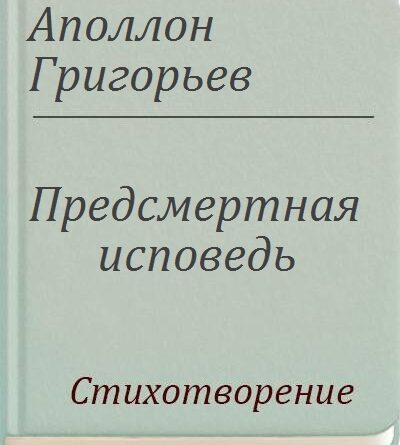
Предсмертная исповедь
— Аполлон ГригорьевАполлон Григорьев «Предсмертная исповедь» — читайте стихотворение онлайн. Текст произведения представлен полностью, бесплатно и без регистрации. Распечатайте текст на сайте объемом 16 страниц.
Текст стихотворения:
And lives as saints have died — a martyr.
Byron *
1
Он умирал один, как жил,
Спокойно горд в последний час;
И только двое было нас,
Когда он в вечность отходил.
Он смерти ждал уже давно;
Хоть умереть и не искал,
Он всё спокойно отстрадал,
Что было отстрадать дано.
И жизнь любил, но разлюбил
С тех пор, как начал понимать,
Что всё, что в жизни мог он взять,
Давно, хоть с горем, получил.
И смерти ждал, но верил в рок,
В определенный жизни срок,
В задачу участи земной,
В связь тела бренного с душой
Неразделимо; в то, что он
Не вовсе даром в мир рожден;
Что жизнь — всегда он думал так –
С известной целью нам дана,
Хоть цель подчас и не видна,—
Покойник страшный был чудак!
2
Он умирал… глубокий взгляд
Тускнел заметно; голова
Клонилась долу, час иль два
Ему еще осталось жить,
Однако мог он говорить.
И говорить хотел со мной
Не для того, чтоб передать
Кому поклон или привет
На стороне своей родной,
Не для того, чтоб завещать
Для мира истину,— о нет!
Для новых истин слишком он
Себе на горе был умен!
Хотел он просто облегчить
Прошедшим сдавленную грудь
И тайный ропот свой излить
Пред смертью хоть кому-нибудь;
Он также думал, может быть,
Что, с жизнью кончивши расчет,
Спокойней, крепче он уснет.
3
И, умирая, был одним,
Лишь тем одним доволен он,
Что смертный час его ничьим
Участьем глупым не смущен;
Что в этот лучший жизни час
Не слышит он казенных фраз,
Ни плача пошлого о том,
Что мы не триста лет живем,
И что закрыть с рыданьем глаз
На свете некому ему.
О да! не всякому из нас
Придется в вечность одному
Достойно, тихо перейти;
Не говорю уже о том,
Что трудно в наши дни найти,
Чтоб с гордо поднятым челом
В беседе мудрой и святой,
В кругу бестрепетных друзей,
Среди свободных и мужей,
С высоким словом на устах
Навек замолкнуть иль о той
Желанной смерти, на руках
Души избранницы одной,
Чтобы в лобзании немом,
В минуте вечности — забыть
О преходящем и земном
И в жизни вечность ощутить.
4
Он умирал… Алел восток,
Заря горела… ветерок
Весенней свежестью дышал
В полуоткрытое окно,—
Лампады свет то угасал,
То ярко вспыхивал; темно
И тихо было всё кругом…
Я говорил, что при больном
Был я один… Я с ним давно,
Почти что с детства, был знаком.
Когда он к невским берегам
Приехал после многих лет
И многих странствий по пескам
Пустынь арабских, по странам,
Где он — о, суета сует!—
Целенье думал обрести
И в волнах Гангеса святых
Родник живительный найти
И где под сенью пальм густых
Набобов видел он одних,
Да утесненных и рабов,
Да жадных к прибыли купцов.
Когда, приехавши больной,
Измученный и всем чужой
В Петрополе, откуда сам,
Гонимый вечною хандрой,
Бежал лет за пять, заболел
Недугом смертным,— я жалел
О нем глубоко: было нам
Обще с ним многое; судить
Я за хандру его не смел,
Хоть сам устал уже хандрить.
5
Его жалел я… одинок
И боле был он; говорят,
Что в этом сам он виноват…
Судить не мне, не я упрек
Произнесу; но я слыхал,
Бывало, часто от него,
Что дружелюбней ничего
Он стад бараньих не видал.
«Львы не стадятся»,— говорил,
Бывало, часто он, когда
И горд, и смел, и волен был;
Но если горд он был тогда,
За эту гордость заплатил
Он, право, дорого: тоской
Тяжелой, душной; он родных
Забыл давно уже; друзей,
Хоть прежде много было их,
Печальной гордостью своей
И едкой злостию речей
Против себя вооружил.
И точно, в нем была странна
Такая гордость: сатана
Его гордее быть не мог.
Он всех так нагло презирал
И так презрительно молчал
На каждый дружеский упрек,
Что только гений или власть
Его могли бы оправдать…
А между тем ему на часть
Судьба благоволила дать
Удел и скромный, и простой.
Зато, когда бы мог прожить
Спокойно он, как и другой,
И с пользой даже, может быть,
Он жил, томясь тоскою злой,
И, словно чумный, осужден
Был к одинокой смерти он.
6
Но я жалел о нем… Не раз,
Когда, бездействием томясь,
В иные дни он проклинал
Себя и рок, напоминал
Ему о жизни я былой
И память радостных надежд
Будил в душе его больной,
И часто, не смыкая вежд,
Мы с ним сидели до утра
И говорили, и пора
Волшебной юности для нас,
Казалось, оживала вновь
И наполняла, хоть на час,
Нам сердце старая любовь
Да радость прежняя… Опять
Переживался ряд годов
Беспечных, счастливых; светлей
Нам становилось: из гробов
Вставало множество теней
Знакомых, милых… Он рыдал
Тогда, как женщина, и звал
Невозвратимое назад;
И я любил его, как брат,
За эти слезы, умолял
Его забыть безумный бред
И жить как все, но мне в ответ
Он улыбался — этой злой
Улыбкой вечною, змеей
По тонким вившейся устам…
Улыбка та была страшна,
Но обаятельна: она
Противоречила слезам,
И между тем я даже сам
Тогда смеяться был готов
Своим словам: благодаря
Змее-улыбке смысл тех слов
Казался взят из букваря.
Так было прежде, и таков
Он был до смерти; вечно тверд,
Он умер зол, насмешлив, горд.
7
Он долго тяжело дышал
И бледный лоб рукой сжимал,
Как бы борясь в последний раз
С земными муками; потом,
Оборотясь ко мне лицом,
Сказал мне тихо: «Смертный час
Уж близок… правда или нет,
Но в миг последний, говорят,
Нас озаряет правды свет
И тайна жизни нам ясна
Становится — увы! навряд!
Но — может быть! Пока темна
Мне жизнь, как прежде». И опять
Он стал прерывисто дышать
И ослабевшей головой
Склонился… Несколько минут
Молчал и, вновь борясь с мечтой,
Он по челу провел рукой.
«Вот наконец они заснут —
Изочтены им были дни —
Они заснут… но навсегда ль?»—
Сказал он тихо.— «Кто они?»—
С недоуменьем я спросил.
«Кто? — отвечал он.— Силы! Жаль
Погибших даром мощных сил.
Но точно ль даром? Неужель
Одна лишь видимая цель
Назначена для этих сил?
О нет! я слишком много жил,
Чтоб даром жить. Отец любви,
Огня-зиждителя струю,
Струю священную твою
Я чувствовал в своей крови,
Страдал я, мыслил и любил —
Довольно… я недаром жил».
Замолк он вновь; но для того,
Чтоб в памяти полней собрать
Пути земного своего
Воспоминанья, он отдать
Хотел отчет себе во всем,
Что в жизни он успел прожить,
И, приподнявшися потом,
Стал тихо, твердо говорить.
Я слушал… В памяти моей
Доселе исповедь жива;
Мне часто в тишине ночей
Звучат, как медь, его слова.
8
«Еще от детства, — начал он,—
Судьбою был я обречен
Страдать безвыходной тоской,
Тоской по участи иной,
И с верой пламенною звать
С небес на землю благодать.
И рано с мыслью свыкся я,
Что мы другого бытия
Глубоко падшие сыны.
Я замечал, что наши сны
Полней, свободней и светлей
Явлений бедных жизни сей;
Что нечто сдавленное в нас
Наружу просится подчас
И рвется жадно на простор;
Что звезд небесных вечный хор
К себе нас родственно зовет;
Что в нас окованное ждет
Минуты цепи разорвать,
Чтоб целый новый мир создать,
И что, пока еще оно
В темнице тела пленено,
Оно мечтой одной живет;
И, чуть лишь враг его заснет,
В самом себе начнет творить
Миры, в которых было б жить
Ему не тесно… То мечта
Была пустая или нет,
Мне скоро вечность даст ответ.
Но, правда то или мечта,
Причина грез моих проста:
Я слишком гордым создан был,
Я слишком высоко ценил
В себе частицу божества,
Ее священные права,
Ее свободу; а она
Давно, от века попрана,
И человек, с тех пор как он,
Змеей лукавой увлечен,
Добро и зло равно познал,
От знанья счастье потерял.
9
Я сам так долго был готов
Той гордости иных основ
Искать в себе и над толпой
Стоять высоко головой,
И думал гения залог
Носить в груди, и долго мог
Себя той мыслью утешать,
Что на челе моем печать
Призванья нового лежит,
Что, рано ль, поздно ль, предлежит
Мне в жизни много совершить
И что тогда-то, может быть,
Вполне оправдан буду я;
Потом, когда душа моя
Устала откровений ждать,
Призванья нового, мечтать
И грезить стал я как дитя
О лучшей участи, хотя
Не о звездах, не о мирах,
Но о таких же чудесах:
О том, что по природе я
К иным размерам бытия
Земного предназначен был,
Что гордо голову носил
Недаром я и что придет
Пора, быть может, мне пошлет
Судьба богатство или власть.
Увы, увы! так страшно пасть
Давно изволил род людской,
Что не гордится он прямой
Единой честию своей,
Что он забыл совсем о ней
И что потеряно навек
Святое слово — человек.
10
Да — этой гордостью одной
Страдал я… Слабый и больной,
Ее я свято сохранил
И головы не преклонил
Ни перед чем: печален, пуст
Мой бедный путь, но ложью уст
Я никогда не осквернил,
Еговы имени не стер
Я чуждым именем с чела;
И пусть на мне лежит укор,
Что жизнь моя пуста была.
Я сохранил, как иудей,
Законы родины моей,
Я не служил богам иным,
Хотя б с намереньем благим,
Я жизни тяжесть долго нес,
Я пролил много жгучих слез,
Теряя то, чем мог владеть,
Когда б хотел преодолеть
Вражду к кумирам или лгать
Себе и людям; но страдать
Я предпочел, я верен был
Священной правде, и купил
Страданьем право проклинать…
Не рок, конечно, нет, ему
Я был покорен одному
И, зная твердо наперед,
Что там иль сям, наверно, ждет
Потеря новая, на зов
Идти смиренно был готов.
11
Я был один, один всегда,
Тогда ль, как в детские года
Подушку жарко обнимал
И ночи целые рыдал;
Тогда ль, как юношей потом,
Глухой и чуждый ко всему,
Что ни творилося кругом,
Стремился жадно к одному
И часто всем хотел сказать:
“О Марфа, Марфа! есть одно,
Что на потребу нам дано…
Пора благую часть избрать!”
Тогда ль, когда, больной и злой,
Как дикий волк, в толпе людской
Был отвергаем и гоним,
И эгоистом прозван злым,
И сам вражды исполнен был,
Вражды ко псам, вражды жида,
Зане я искренно любил;
Я был один, один всегда.
Увы! кто прав, кто виноват?
Другие, я ли? Но, как брат,
Других любил я, и прости
Мне гордость, Боже, но вести
К свободе славы Божьих чад
Хотел я многих… Сердце грусть
Стесняет мне при мысли той;
Любил я многих, молодой,
Святой любовью, да — и пусть
Я был непризнанный пророк,
Но не на мне падет упрек,
Когда досель никто из них
Нейдет дорогой Божьих чад;
И пусть из уст безумцев злых
Вослед проклятья мне гремят
И обвиненья за разврат;
Я жил недаром!»
12
Смолкнул он
И вновь склонился, утомлен,
Отягощенной головой.
Молчал я… Грустно предо мной
Годов минувших длинный ряд,
Прожитых вместе, проходил,
И понял я, за что любил
Его я пламенно, как брат.
Да, снова всё передо мной
Былое ожило… и он,
Ребенок, бледный и больной,
Судьбой на муки обречен,
Явился мне: предстал опять
Тогда души моей очам
Старинный, тесный, мрачный храм,
Куда он уходил рыдать,
Где в темноте, вдали, в углу,
Моленье жаркое лилось,
Где, распростертый на полу,
Он пролил много жгучих слез,
Где он со стоном умолял
Того, чей Лик вдали сиял,
Ему хоть каплю веры дать
И где привык он ожидать
Явлений женщины одной…
Я видел снова пред собой
Патриархально-тихий дом
И мук семейных целый ряд,
Упреки матери больной,
Однообразных пыток ряд
И ряд печальных сцен порой…
Молчал я, голову склоня,
В раздумье тяжком, для меня
Он был оправдан… Тяжело
Вздохнул опять тогда больной,
И вновь горячее чело
Он обмахнул себе рукой.
13
«Но ты любил»,— я начал речь,
Желая мысль его отвлечь
От слишком тяжких бытия
Вопросов к грезам юных лет,
С которыми, как думал я,
Покинуть веселее свет.
«Любил ты, кажется, не раз?»—
Я продолжал; но он в ответ
Как будто грезил тихо: «Нас,—
Он говорил,— еще детей
Друг другу прочили, и с ней
Мы свыклись… Бедный ангел мой!
Теперь ты снова предо мной
Сияешь, девственно-чиста
И простодушна… Вот места,
Знакомые обоим нам,—
Пригорок, роща; там и сям
Еще не смолкли голоса
И стад мычанье, хоть роса
Ночная падает… горит
Зарею алой неба свод,
И скоро ярко заблестит
Звезд величавый хоровод;
И мы одни: привольно нам,
Как детям, под шатром небес,
И вместе странно… Близок лес,
Вечерний шепот по ветвям
Уж начался, и робко мне
Ты руку жмешь, и локон твой,
Твой длинный локон над щекой
Скользит моей; она в огне.
Не видишь ты, она горит,
По телу сладостно бежит
Досель неведомая дрожь…
Мы были дети, да и кто ж
Нас разлучал тогда? Росли
Мы вместе… бедный ангел мой,
Моей сестрой, моей женой
Тебя от детства нарекли,
Чтобы с бесчувственностью злой
Обоим нам потом сказать:
“Прошла ребячества пора,—
Ведь это всё была игра;
Идите врозь теперь страдать”.
14
И говорят, я сам виной,
Как и всего, потери той…
Не та беда, что одинок
Я в Божьем мире брошен был,
Что слишком долог был бы срок,
Когда бы я соединил
Свою судьбу с ее судьбой…
И это правда, может быть;
Но свято гордости служить
Привык я, бедный ангел мой,
Любя тебя, тебе одной
Служа безумно… Ты могла
Любить того лишь, чье чело
Всегда подъято и светло.
Ты так горда, чиста была!
В тебе я сам же разбудил
Борьбу души мятежных сил,
Любовь к избранникам богов,
Презрение к толпе рабов.
О да! ты мною создана,
И ты со мной осуждена.
Меня, быть может, проклинать
В часы недуга ты могла;
Но ты не властна презирать
Того, чья жизнь всегда была
Неукротимою борьбой…
И чист, и светел образ мой
Среди вражды, среди клевет,
Быть может, пред одной тобой,
Мой бедный ангел лучших лет.
15
И помню: душно, тяжело
Обоим было нам; легло,
Казалось, что-то между нас.
Одни в гостиной, у окна
Мы были; но за нами глаз
Следил чужой; была больна,
Была, как тень, бледна она,
И лихорадки блеск больной
Сверкал в задумчивых очах…
Мне было тяжко; мне во прах
Упасть хотелось перед ней
И руку бледную прижать
К горячей голове моей
И, как дитя, пред ней рыдать.
Но странен был наш разговор.
В ее лице немой укор
Порой невольно мне мелькал…
Укор за то, что я не лгал
Перед другими, перед ней,
Пред гордой совестью своей;
Укор за то, что я любил,
Что я любимым быть хотел,
Всей полнотой душевных сил
Любимым быть, что, горд и смел,
Хотел пред ней всегда сиять,
Хотел бороться и страдать;
Но вечно выше быть судьбы
Среди страданий и борьбы…
Молчали грустно мы… Потом
Я говорить хотел о том,
Что нас разрознило; она
Безмолвно слушала — грустна,
Покорна, голову склоня;
И вдруг, поднявши на меня
Болезненно сверкавший взгляд,
Сказала тихо, что “навряд
Другие это всё поймут”,
Что “так на свете не живут”.
16
Я долго по свету бродил,
С тех пор как рок нас разделил;
Но, видно, так судил уж Бог,—
Ее я позабыть не мог,
Не потому, чтобы одна
Была любима мной она,
Не потому, чтоб истощил
Избыток всех душевных сил
Я в страсти той; еще не раз
Любил я, может быть, сильней
И пламенней, но каждый час
Страданья с мыслию о ней
Сливался странно… Часто мне
Она являлася во сне,
Почти всегда в толпе чужих,
Почти всегда больна, робка,
С упреком на устах немых;
И безотрадная тоска
Меня терзала. Ты видал,
Что я, как женщина, рыдал
В часы иные… Или есть
Родство существ? Увы! Бог весть!
Но знаю слишком я одно,
Что было бытие мое,
Назло рассудку, без нее
Отравлено и неполно.
Но будет… вновь меня тоска
Начнет терзать, а смерть близка.
В себе присутствие ее
Я начинаю ощущать…
Зачем земное бытие
В устах с проклятьем покидать?
Благословение всему,
Благословение уму,
За то что Он благословлять
До смерти жизнь нам запретил.
Благословение судьбе,
Благословение борьбе,
Хотя бесплодной, наших сил!
Дай руку мне… открой окно,
Прекрасно… так! Еще темно,
Но загорелась неба твердь…
Туда, туда! Авось хоть смерть
С звездами нас соединит,
И к бездне света отлетит
Частица светлая моя.
Авось ее недаром я,
Как клад заветный, сохранил.
Но, так иль иначе, я жил!»
17
И с этим словом на устах
Замолк он: больше не слыхал
Ни звука я; в моих руках
Я руку хладную держал
И думал, что забылся он.
И точно, будто в тихий сон
Он погрузился… Ничего
В чертах измученных его
Не изменилось; так же зла
Улыбка вечная была,
И так же горд и грустен взгляд.
Мне было тяжко… Никогда
Лучу дневному не был рад
Я так от сердца, как тогда;
Вставало солнце, и в окно
Блеснуло, юное всегда,
Всегда прекрасное равно,
И озарило бедный прах,
Мечтавший так же, как оно,
Лучами вечными сиять,
И на измученных чертах
Еще не стертую печать,
Недавней мысли грустный след,
Всему насмешливый привет.
* И живет, как умирают святые, — мучеником. Байрон (англ.). — Ред.
